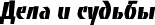|
Главная / Публикации / 2011 / Сентябрь
Поиск: 23 Сентября 2011
Зоя Светова: «Я тоже свидетель обвинения»В продолжение разговора о борьбе с неправедным судом в России ЕЛЕНА РАЧЕВА встретилась с известным журналистом и правозащитником — Вы начали заниматься правами заключенных больше 10 лет назад. Помните, как первый раз побывали в тюрьме?
— Это была Можайская колония для мальчиков, я приехала туда с правозащитниками. Чувствовала себя как в зоопарке: что происходит, не понимаешь, ни с кем толком поговорить не можешь. Даже не боишься особенно. Страшно становится позже, когда понимаешь, как эта система устроена.
— Что оказывается самым страшным?
— Ощущение несправедливости. Я расспрашивала людей, которые сидели. По их мнению, невиновны 30% тех, кто находится в тюрьмах. Хотя сначала мне казалось, что невиновны все.
— Когда вы поняли, что помощь заключенным становится работой?
— Я стала постоянно писать о заключенных в газете «Новые Известия». Кого-то из них начали отпускать из-под стражи, и ко мне, как в последнюю инстанцию, пошли люди, рассказывали: мой сын, муж, брат не виноват, обвинение фальсифицировано. Я читала дело, ставила себя на место этих людей — и всех оправдывала. А потом появился азарт. Ты пишешь — и тебе кажется, что ты сейчас человека спасешь.
Потом я написала несколько статей о деле Игоря Сутягина. Было понятно, что он невиновен, что суд выполняет заказ спецслужб. Когда присяжные единогласно признали Сутягина виновным, я была в таком шоке, что побежала за ними, села рядом в тот же вагон метро и стала слушать, что они говорят. Они были совершенно спокойны, обсуждали домашние дела, улыбались. Меня это потрясло.
— Вас сложно представить в Бутырке или в мордовской колонии. Как вы находите общий язык с сотрудниками тюрем? Как действуете, когда вас куда-то не пускают?
— Я же многодетная мать. В советское время, когда всюду был дефицит, я везде трясла своим многодетным удостоверением и покупала продукты без очереди. Я думаю, меня это закалило. К тому же я была в лагерях беженцев в Ингушетии, видела очень много человеческого горя, я ездила в Мордовию, где земля буквально пропитана человеческими страданиями — сколько там людей прошло через лагеря! Я ездила к Кадырову, который вызвал у меня животный ужас. После этого мне ничего не страшно. Чтобы чего-то добиться, я могу пойти к любому, и мне не важно, судья это, генеральный прокурор или вертухай. Если мне что-то нужно, я могу жестко очень говорить, и нахамить, и матом послать. Но я стараюсь с людьми договариваться. Да и они понимают, что они преступники и что я понимаю, что они преступники.
— А кто, по-вашему, типичный сотрудник тюрьмы? Как эти люди туда попадают, что ими движет?
— Сотрудники московских СИЗО — в основном люди из Подмосковья и соседних регионов, они работают только ради денег. Зарплаты в СИЗО низкие, что-то около 18 тысяч рублей, и дополнительные деньги они зарабатывают, пронося заключенным наркотики, телефоны, организуя незаконные свидания. А в Мордовии, где вообще нет другой работы, в тюрьмах работают целыми династиями, по нескольку поколений. Молодые женщины стоят на вышках, конвоируют зеков и иной деятельности себе не представляют. Когда они приходят в тюрьму, им объясняют, что здесь сидят преступники и с ними надо соответственно обращаться. Поэтому охранники, с одной стороны, зеков ненавидят и унижают, с другой — боятся. Часто отношения между сотрудниками такие же дикие, как между зеками: начальство плохо относится к нижестоящим; тех, кто не участвует в коррупции и избиениях, стараются подставить и выгнать, все друг друга боятся, многие пьют.
Правда, я видела и тех, кто уходил из системы, потому что не могли больше участвовать в насилии. Недавно я брала интервью у бывших сотрудников подмосковного СИЗО, которые уволились, потому что не захотели участвовать в унижении заключенных. Обычно мне трудно общаться с тюремщиками, я всегда на стороне заключенных и не понимаю, как можно пойти работать в тюрьму.
— Наверняка заметно, как сотрудники тюрем объясняют себе, кто вы?
— Они думают, что правозащитники работают за деньги (я являюсь членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которая посещает московские СИЗО). Просто не понимают, зачем мы ходим по тюрьмам бесплатно. Конечно, внешне все приветливы: предлагают чай, ведут якобы искренние беседы, имитируют заботу о заключенных, но постоянно рассказывают, какие те негодяи. Начальник «Матросской тишины», к примеру, убеждал меня, что Магнитский употреблял кокаин.
Зато рядовые охранники смотрят на нас с интересом. Помню, как я первый раз приехала в мордовскую колонию к Заре Муртазалиевой (чеченская студентка, в 2005 году была осуждена на 8,5 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта. — OS). На свидании присутствовали две вертухайки. Они абсолютно обалдели: немолодая женщина, приличная, приехала с сумками непонятно откуда. Долго расспрашивали, есть ли у меня дети, действительно ли я живу в Москве.
— А что говорят ваши дети, когда мама в очередной раз едет в Мордовию?
— Они уже махнули рукой. Когда возвращаюсь, рассказываю про зону, но им это не так уж и интересно. Мой муж в советское время занимался Фондом помощи заключенных и сегодня, конечно, сочувствует тому, что я делаю. Но смотрит на мои занятия немного снисходительно. Думаю, в глубине души боится за меня и оберегает. Но я рада, что сыновья — мои единомышленники. Когда нужно вытащить кого-то из тюрьмы, я могу позвонить Тихону (Тихон Дзядко, корреспондент радио «Эхо Москвы». — OS) и попросить его рассказать про дело того или иного заключенного. Когда таких просьб становится слишком много, Тихон говорит мне: мама, ну это уже невозможно, отстань!
Все трое моих сыновей — журналисты; мне ужасно важно, что они продолжают мою деятельность, хотя я и надеялась, что хотя бы один из них станет адвокатом или судьей. Когда я занялась правозащитой, быстро поняла, что это бессмысленно, результата нет, и хотела пойти учиться на адвоката. Но мне было уже 45 лет. Теперь я предлагаю это дочке, которой сейчас 13, но она пока не хочет.
— Знакомы ли герои ваших статей с вашей семьей, бывают у вас дома?
— Нет, важно держать дистанцию, иначе люди со своими бедами могут тебя поглотить. Хотя я отслеживаю все изменения в судьбе моих героев, стараюсь переписываться с ними. Но их становится уже слишком много.
Иногда, когда вытаскиваешь из тюрьмы какого-то больного заключенного, думаешь: а не пропущу ли я болячки и проблемы своих близких, чересчур увлекшись болезнями и проблемами чужих людей?
— Когда вы начали заниматься правозащитой, вам было 40 лет. Получается, в этом возрасте вы полностью изменили круг общения и образ жизни?
— Конечно. У меня появилось много друзей-адвокатов, например. Мне начали звонить ночами, по воскресеньям. Один раз я была у друзей в Нормандии, в потрясающем замке. А мне звонят и говорят: «Зара Муртазалиева объявила голодовку, потому что ей подбросили заточку, что делать?» А что я смогу сделать?! Конечно, вернусь — и сразу поеду в Мордовию. Но пока я в Нормандии!
Иногда я даже выключала мобильный ночами и в выходные, но потом поняла — нельзя. Если кто-то звонит из колонии — значит, в другой раз у него не будет телефона, иногда во время разговора слышу шепот: «Всё, менты пришли», — и гудки. К тому же многим нужна не помощь, а просто поговорить. И когда мне звонят, я, конечно, бросаю все дела.
— В своей книге «Признать невиновного виновным» вы описываете, как приехали в мордовскую колонию на свидание к Заре Муртазалиевой, о деле которой писали, представившись ее знакомой. Когда охранники отвернулись, обняли ее — постороннего человека, которого видели в первый раз.
— Мне кажется, у каждого в жизни должна быть своя Зара: незнакомый человек, которому ты пытаешься помочь. И это важно не только для этого человека. Это важно тебе самому. Я поехала к Заре в колонию, потому что мне стало стыдно: вот я, русская журналистка, знаю, что она невиновна, но я ничем не смогла ей помочь. Я не смогла вытащить ее из-за решетки. Мне было стыдно смотреть в глаза ее матери, которая надеялась на мою помощь.
Зару посадили ни за что: никакого теракта она не собиралась организовывать. Я написала о ее процессе десятки статей. Отслеживала все судебные заседания. Ходила туда как на работу. Когда она уже была в колонии, мы стали с ней переписываться. Очень быстро я поняла, что она совершенно незаурядный человек, сильный, и, конечно, никакая не террористка.
Зара сидит семь лет, за это время она стала мне подругой. Два раза в год я езжу к ней на свидания, хотя надо бы чаще: ей дают свидания раз в три месяца, а ездим только ее мама и я. Но я ненавижу Мордовию, боюсь этой разбитой дороги, этих раздолбанных такси. Каждый раз еду и думаю: ну куда я тащусь, у меня четверо детей, а я тут разобьюсь, как это глупо…
— Вы чувствуете ответственность за ее будущее?
— Конечно. Мы уже обсуждали, что будем делать, когда она выйдет. Я однажды видела, как из колонии освобождалась какая-то женщина. Ее встретил мужик, явно сидевший, посадил в машину, сказал: «Все, я больше тебя сюда не пущу». Я много раз представляла, как встречаю Зару. Обязательно поеду в сентябре 2012 года, когда должен закончиться ее срок. В последнем письме она написала: я тебя люблю. И я подумала: за что? Ведь я все равно виновата перед ней, потому что не смогла вытащить ее из-за решетки.
— В своей книге вы пишете, что на собственном опыте знаете, что такое КГБ, помните аресты родителей, обыски. Как это происходило? Как повлияло на то, чем вы теперь занимаетесь?
— Мои родители — религиозные диссиденты, в 80-е вся наша семья крестились, и моя мама (Зоя Крахмальникова, публицист, правозащитник. — OS) стала издавать в самиздате сборники христианского чтения «Надежда». Ее посадили по 70-й статье УК РСФСР, год она провела в «Лефортово», пять лет в ссылке.
У меня четверо детей, и их судьба сплелась с жизнью моих родителей. Старший сын Филипп родился в 1982 году, маму арестовали через три месяца. У нас на даче был обыск, я помню, как рылись в кроватке Филиппа, искали самиздатовские книги. Ночью маму увезли на черной машине, я осталась вдвоем с ребенком. Мне было 23 года.
Через три года арестовали отца (Феликс Светов, литературный критик, писатель. — OS). Мама была в ссылке, а я рожала Тимофея. Перед родами позвонила домой, но никто не ответил. А после родов трубку взял муж и сказал, что папу только что увезли. Отец целый год просидел в «Матросской тишине». Его осудили на пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду, а по сути — за издание книг на Западе и подписание писем в защиту инакомыслящих. Родителей освободили в 1987 году по горбачевской амнистии политзаключенных, когда я возвращалась из роддома с третьим сыном — Тихоном. Мы называли его Тихон Освободитель.
Мы с мужем боролись за родителей: писали Патриарху всея Руси, обращались к международной общественности… Вся жизнь была посвящена этому. Сейчас так же боролась за своего мужа Ольга Романова, но тогда у нас было меньше возможностей: адвокатов в тюрьмы не допускали, независимых журналистов не было, домашний телефон у нас отключили сразу, как посадили маму, многие друзья отвернулись. Никакой связи с тюрьмой не было: мы не знали, что происходит с родителями, никаких писем от них из СИЗО не приходило. Впервые я увидела маму только на суде: через год после ее ареста.
Опыт репрессий в нашей семье уже был. Моего деда по отцу расстреляли в 1937 году, а бабушка сидела в конце 30-х годов в Потьме, в Мордовии. Когда я впервые поехала к Заре Муртазалиевой в колонию, я вдруг поняла, что проезжаю мимо того самого лагеря, в котором 70 лет назад сидела моя бабушка и о котором мне рассказывал мой отец! Такое, по Пастернаку, «судьбы скрещенье».
— Вы как-то говорили, что ваши родители знали, на что шли, что их могут посадить. Вы опасаетесь за себя?
— Я думаю, что не представляю никакой опасности для власти, сажать меня бессмысленно. Если бы мне, например, удалось поймать на взятке какого-то высокопоставленного судью или прокурора или найти счета на имя высокопоставленного чиновника, уличить его в коррупции… Этого боится власть. А то, чем я занимаюсь, — это такое женское рукоделие. Ну, написала Светова об очередном несправедливом приговоре или сфабрикованном деле... И что? Власти абсолютно все равно. И то, что власть не слышит журналистов, это, конечно, обидно. Но не безнадежно. Нас слышит общество.
— В своей книге вы цитируете отца, который описывает свидание со своей мамой в лагере: «Я вдруг пронзительно понял, что ничего нельзя сделать… понял бессмысленность мольбы или протеста». Вы сталкиваетесь с этим ощущением беспомощности?
— Я постоянно общаюсь с родственниками заключенных, они говорят: мы победим, мы победим! Впервые сталкиваясь с нашим судом, они считают, что суд разберется. А я отвечаю — нет. Вашего родственника посадят. Я знаю это заранее и оказываюсь для них черным вестником. В то же время мое «циничное» знание вступает в противоречие с моим идеализмом и надеждой на чудо. Я все равно каждый раз надеюсь. Я надеялась на это самое чудо и на втором процессе по делу Ходорковского. Потому что нельзя себя все время спрашивать, пробьешь ли ты стену. Надо просто идти и делать.
— Но ведь бывают ситуации, когда стена неожиданно поддается?
— Помню, звонит мне человек из Можайского СИЗО, я тогда работала в «Новых Известиях». Его зовут Дима Бегров, он дважды сидел за разбой, освободился, работал охранником в санатории. В этом санатории топором зарубили двух таджиков-гастарбайтеров, и на него, как на бывшего зека, повесили это убийство — пытали, выбили признание. Я помогла ему найти адвоката, посоветовала ходатайствовать о суде присяжных. И его оправдали! Знаете, я была счастлива. За последние годы это был один из самых радостных дней моей жизни, даже сейчас вспоминаю — и плачу. Если тебе удается помочь одному-двум людям — значит, ты не зря топчешь эту землю.
— У вас бывали случаи, когда вы помогали человеку, который на самом деле оказывался виновен?
— Только однажды, я тогда занималась делом молодого парня, которого посадили за наркотики и избивали в ОВД. Он уверял меня, что не употребляет наркотики. Позже я узнала, что он наркоман, но я не жалею, что написала о его деле. Кстати, суд приговорил его к условному сроку. Конечно, я не могу быть на сто процентов уверена, что тот, о ком я пишу, невиновен, но знаю, что в тюрьме не должны избивать — независимо от того, какое преступление заключенный совершил. Не уверена, правда, стала ли бы я помогать убийце Анны Политковской. Хотя если бы его били, выбивали показания, — наверное, написала бы об этом.
— Как вы решаете, за какое дело возьметесь?
— Обычно я пишу о тех, кто уже сидит и о ком никто, кроме меня, не напишет. Меня убивает, когда говорят: дело Ходорковского и Лебедева — это беспредел. А вокруг сотни и тысячи подобных дел: историй, когда людей посадили ни за что; тех, кто безвинно сидит и о ком никто не знает. И этот беспредел начался не после дела Ходорковского, он существовал и раньше.
У меня есть одна «клиентка», Марина Кольякова — женщина, которой дали 12 лет за то, что она якобы убила бомжа. Это не Ходорковский, это простая женщина из города Мценска, которую суд дважды оправдал, но третий судья осудил на тех же доказательствах. Она сидит уже больше шести лет, губернатор Орловской области помиловал ее, а президент Медведев в помиловании отказал. Ее не отпускают на свободу по УДО, и только потому, что она не признает себя виновной. Она говорит — как я признаюсь, я же не убивала! Может, если бы я была на ее месте, я бы призналась. Я восхищаюсь ею.
Но сил слишком мало, и постоянно ощущаешь себя Хлестаковым, который всем обещает. Вот звонит мне Владимир из Мордовской колонии, пишет эсэмэски, письма, говорит, что его посадили квартирные мошенники, что в колонии заключенных избивают, пытают. И мне надо выбрать: то ли заниматься им, то ли кем-то другим.
— Вы представляете себя не занимающейся правозащитой?
— Знаете, я помню, как попала в Чечню. Была осень, грязно, неприглядно, я ехала по разбитым дорогам и думала об Анне Политковской: зачем она туда ездила? Что она находила в этом? И поняла, что это болезнь. Вот я езжу в Мордовию — и это становится частью моей жизни. Это и есть моя жизнь. Ответвления в сторону мне неинтересны. Мне очень быстро становится скучно на шумных тусовках. Я думаю о тех людях, которые лишены свободы ни за что и не могу понять, как можно думать и говорить о чем-то другом? Я очень счастливый человек, у меня замечательные дети, любимый муж. Я могла бы жить жизнью своей семьи, заниматься внуками, читать книги. Но с возрастом понимаешь, что жизнь слишком коротка и тебе уже не так много осталось. Последние десять лет я живу с ощущением, что должна успеть. У меня ощущение, что я в долгу перед теми, кто не так счастлив, как я.
Сейчас я хочу написать книгу «Свидетели обвинения» — о людях, которые отсидели по экономическим статьям, вышли и готовы предъявлять счет. Их много, и они начинают бороться за то, чтобы вернуть свой бизнес или посадить в тюрьму тех, кто когда-то посадил их. Если представить гипотетический будущий «нюрнбергский процесс» против следователей, судей и прокуроров — эти люди будут свидетелями обвинения.
— Вы тоже — свидетель обвинения?
— Ну конечно. Елена Рачева, «OpenSpace.ru» - 22 сентября 2011г. Архив публикаций Добавить комментарий:
|
Последние поступления:
Последние комментарии:
Портреты:
Достоевский Ф.М.
4 года каторги 22 декабря 1849 Достоевский вместе с другими ожидал на Семёновском плацу исполнения смертного приговора. По резолюции Николая I казнь была заменена ему 4-летней каторгой с лишением "всех прав состояния" и последующей сдачей в солдаты.
Судьбы:
Александр Долматов 17 января 2013 года покончил с собой в депоратиционной тюрьме Роттердама, королевство Нидерланды. Александр покинул страну летом 2012г., когда понял, что его попытаются сделать обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве
Рослаг:
Гуманный ГУЛАГ Эдуарда Берзина
В начале 1930-х в СССР был поставлен эксперимент по «перековке» зеков: УДО, большие зарплаты и образцовый быт в обмен на ударный труд
|
|
|
|