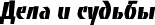|
Главная / Публикации / 2012 / Октябрь
Поиск: 16 Октября 2012
Екатерина Самуцевич: «Мы живем в большой тюрьме»Участница Pussy Riot Екатерина Самуцевич рассказала БГ о том, почему она сменила адвоката, какие слова вырезали из ее интервью, в чем ее не так поняла общественность и что она собирается делать дальше Автор фото Владимир Васильчиков — Что вы сделали сразу после того, как вышли на свободу? — Начала убегать от журналистов, которые напали на меня возле здания Мосгорсуда. Они меня окружили, не давали никуда пройти, и мне пришлось бежать к машине друга. Машину сразу же блокировали, стучали в стекла, держали колеса. Мы с трудом уехали. — Вам было страшно в этот момент? — Скорее, я растерялась: все от тебя чего-то хотят, гонятся, кричат твое имя, а тебе нужно всего лишь место, где можно сесть одной, собраться с мыслями и понять, что произошло. Я же не ожидала, что меня выпустят на свободу, была, скажем так, ошарашена. — И куда вы поехали? — Кажется, к тете: она хотела меня видеть, скучала по мне все семь месяцев. Мы с ней обнялись, посидели за столом, там же был мой папа. После этого с родственниками, если честно, я не виделась: все время какие-то дела, интервью. — А православных активистов пока не встречали? — Нет, я не видела агрессивных православных фанатиков, которыми меня все так пугают. Я вообще думаю, это некий фантом, специально созданный властью для того, чтобы запугивать людей, которые нас поддерживают. Вот, дескать, у нас в стране много религиозных фанатиков, которые готовы убивать людей, бойтесь их! Мне кажется, это все не так: у нас достаточно образованное общество, люди понимают, что произошло, и к нашей акции относятся без агрессии. Это пропаганда властей, поддержанная федеральными каналами, по созданию картинки яростного неприятия нашей деятельности. С реальностью эта картинка никак не соотносится. — Вы жалеете, что провели на солее всего 15 секунд, или, наоборот, радуетесь? — Конечно же, жалею. Мне бы хотелось довести начатое до конца и выступить с другими девчонками. Ситуация в стране сложилась кричащая, и бояться нельзя — властям выгодно запугивать население при помощи ОМОНа. Высказывать свое мнение просто необходимо: это была феминистская акция политического искусства, мы хотели высказаться, не желая никого оскорбить. И если бы у меня была возможность повторить тот день, я бы его повторила. То, что мы сделали, — это не преступление и не хулиганство. Я до сих пор не считаю себя виновной и не считаю, что виноваты Маша и Надя. Они сидят абсолютно незаконно. — И теперь вы им носите передачи. — Да, конечно. Завтра опять поеду. — Вы собираетесь как-то налаживать жизнь, искать работу? — Нет. Сейчас все направлено на дела группы, и в этом смысле я работаю круглосуточно. — В последнее время вокруг вашей группы складывается скандальная атмосфера. Взять хотя бы письма Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной о том, что Петр Верзилов не имеет никакого отношения к Pussy Riot. — Да, и у меня это вызвало легкое удивление. Понятно, что Петр не является членом нашей группы, поскольку в ней может участвовать только девушка в балаклаве, этот образ создан нами. И это явно не Верзилов, хотя он и муж Надежды Толоконниковой. Собственно, сам Петр об этом в каждом интервью говорит, и как-то дополнительно подчеркивать этот факт нет нужды. — При этом ваш бывший адвокат Виолетта Волкова заявляла, что у нее есть и ваше письмо, в котором вы нелицеприятно высказываетесь о Верзилове. — Мне странно обсуждать личные письма. Я могла как-то реагировать на вопросы людей о том, является ли Петр участником нашей группы, мне их задавали в письмах. Естественно, я писала ответы, проговаривала — нет, не является. Никаких негативных выпадов против Петра я не делала, он мой друг, почему я должна его ругать?! Вообще, меня удивляет, что мой адвокат позволял себе обсуждать мою личную переписку. Мне не хочется это даже комментировать. — Как вы попали в группу Pussy Riot? — Я была в ней с самого начала, в числе нескольких девушек, которые ее создали. Мы сами себя вписали в эту группу, поскольку сами ее создали. Наблюдая за тем, какую политику проводят наши власти, мы не могли оставаться в стороне. В России все значимые решения принимает элита, а граждане являются пассивными наблюдателями, и это очень заметно по новостным передачам федеральных каналов. Новости буквально сочиняются, я это в СИЗО заметила: раньше я только интернетом пользовалась, телек не смотрела, а в тюрьме — пришлось. И очень хорошо видно, что эти новости — художественный проект власти, полное искажение действительности. Цензура федеральных каналов давит даже на оппозиционные каналы: я тут давала одному из них интервью и видела, что они оставили от моих слов на выходе. — А какие ваши слова вырезали? — Я давала интервью для одной передачи, которая вроде бы нас поддерживает. Меня спросили, чувствую ли я эйфорию от выхода на свободу. Я ответила: «Нет, никакой эйфории, поскольку наше общество не сильно отличается от тюрьмы. Нет никакой свободы, и я не вижу большой разницы между СИЗО и волей: конечно, физическая свобода есть, но ее нет в идеологическом, концептуальном смысле. Летом были приняты антигражданские законы, везде автозаки, сотовые прослушивают, «эшники» по улицам ходят — по сути, мы живем в большой тюрьме». Я это все проговорила, и это все было вырезано, и я понимаю почему. — Как была устроена ваша жизнь в СИЗО? — Спецкамера на четверых. Четыре кровати, стол. В шесть утра включается свет, сразу — подъем, заправлять кровать. Отбой — в десять вечера. Между ними — завтрак, обед и ужин. Вообще, каждый день — день сурка: монотонное повторение одного и того же, события инициируешь не ты, а администрация СИЗО. Плюс тебе постоянно навязывают правила: на выходе держать руки за спиной, бегать и прыгать нельзя, в камере постоянные обыски, так называемые шмоны. — С кем вы сидели? — С экономическими заключенными — по 159-й статье. — Приятные? — Разные. Я все время сидела в одной камере — администрации это было удобно для контроля. С моими сокамерницами постоянно общались оперативники, говорили им, например, что я даю в интернет информацию об их уголовных делах. Эти провокации не удались, потому что сокамерницы общались со мной и знали, что это неправда. И все равно их периодически вызывали, спрашивали, с кем я общаюсь, что говорю, какие письма пишу. Те же оперативники читали все мои письма — помимо того что их читали цензоры ФСИН. — Пока вы сидели в СИЗО, ситуация в обществе несколько изменилась: после декабря и «белых ленточек» пошли разговоры о том, что «протест слили, и сама оппозиция ничем не лучше Путина». — Это проблема неподготовленности гражданского общества. — Но ведь вам же должно быть обидно? Даже публичные деятели гражданского общества, за которое вы рубились 15 секунд на солее, потом семь месяцев в СИЗО, писали во всех социальных сетях, что на вас надавили опера и вы пошли на сделку со следствием. Вам их сейчас к черту послать не хочется? — У меня нет агрессии. То, что сейчас происходит, — не оттого, что люди такие глупые, просто они находятся под влиянием пропаганды. А что касается оппозиции — да, жаль, но надо продолжать говорить. Опять-таки — почему мы были так хорошо приняты на Западе? Там есть культура протеста, традиция борьбы за права женщин, за права ЛГБТ. Они понимают, что это не борьба за маргиналов. А в России даже в оппозиции отношение к нам интересное: феминистки, ЛГБТ — да зачем это все нужно?! Надо быть просто против Путина. Мне, например, присылали письма с советами, как защищаться: «Ты только не говори про феминизм и искусство, это никому не понятные вещи». А мне казалось, что раз непонятные, то их и стоит объяснять, и я в своих показаниях, в прениях, в последнем слове пыталась говорить только об этом. — В социальных сетях ваших друзей, которые советовали вам сменить адвоката, называли провокаторами, «играющими на руку ФСБ». — Я знаю и не хочу это читать. Мы с девчонками все время общались, обсуждали в том числе мою смену адвоката, и Маша мне помогала: «Вот, назови на суде эту статью». И Надя помогала и переживала, что мне не дадут это сделать. В тот день, когда мое ходатайство удовлетворили, девчонки за меня очень радовались. Потом, когда я вышла на свободу, они были счастливы: вот, хотя бы одна из трех вышла. Да и потом, я не меняла линию защиты, я не знаю, откуда пошли разговоры о том, что на меня оказывали давление. Это полный бред. — Насколько мне известно, ваш отец еще в начале процесса хотел, чтобы вас защищал другой адвокат — Алексей Егоров. — Да. Когда нас арестовали, появились на горизонте Коля Полозов и Виолетта Волкова. Марка Фейгина еще не было. Они нам предложили помощь, и это был очень хороший жест, мы согласились. И когда появился новый адвокат, я была вынуждена ему отказать. — В «Новой газете» тогда вышла заметка Данилы Линдэле, в которой, со слов Виолетты Волковой и Николая Полозова, утверждалось, что Егоров уговаривал вас заключить сделку со следствием, признать вину и пойти на «особый порядок». — Нет, этого не было. — Несмотря на то что вы с самого начала хотели, чтобы вас защищали Полозов и Волкова, вы от их услуг решили отказаться. Почему? — Как я поняла, тут какая-то болезненная история возникла со сменой адвоката, и мне не хочется ее развивать. Ну хорошо, я назову одну из причин, и она, по сути, не главная: я заметила в суде и по твиттеру Коли и Марка, что их взгляды с нашими феминистскими взглядами не совпадают. Они постоянно давали интервью, и, возможно, это была ошибка прессы, но это мнение стало проецироваться на нас, мы перестали быть понятыми, наши идеи исказились из-за того, что адвокаты постоянно переводили разговор из плоскости феминизма в гражданский протест. Они говорили, что мы все это сделали из-за Путина и против Путина, а это не совсем так. И еще: в прениях Коля сказал, что оскорблен как православный, но православные должны нас простить, «они неосознанно это сделали», а это неправда, мы очень даже осознанно все сделали! Это не было этической ошибкой, это был осознанный выбор. Разница наших взглядов привела к искажению, нас начали воспринимать по-другому, и были моменты, когда люди говорили, что если бы больше говорилось о том, что мы феминистки, им было бы понятнее, почему мы зашли в храм, а не куда-либо еще. Я уверена, что адвокаты не хотели нам ничего плохого, они боролись за нас как могли. Я не могу оценивать юридическую сторону, и у меня нет никакой критики их защиты, потому что, когда шел процесс, меня совсем не волновало, что говорят адвокаты. Меня волновало, что я сама буду говорить и как бы добиться того, чтобы суд начал меня слушать. — Неприятно было? — Да. На суде была такая странная обстановка тишины, и все время говорила сторона потерпевших, а когда мы пытались что-то сказать, нас все время перебивали. Без нашего ведома процесс был разделен на некие этапы: судья постоянно говорила, что «сейчас не ваше время, не ваша стадия». В итоге все слышали людей, которые были оскорблены, а нам слова не давали вставить. Из-за этого возникло мнение, что мы к потерпевшим как-то без уважения относились, цинично. А это совсем не так, я с уважением к ним отношусь. Интересно вот еще что: я читала интервью, которое дали потерпевшие, они сказали, что если бы знали о том, что процесс станет настолько громким, то не пошли бы в суд. Они не жаждали нашего срока и нашей крови. Это власти рисовали картину ненависти. — Какой момент в суде запомнился больше всего? — Никакой. Там была такая странная монотонная и неприятная атмосфера. Я ожидала, что будут прения, борьба сторон, споры, но этого вообще не было. Может, так принято, я не разбираюсь в судебном процессе. Я услышала только монологи со стороны обвинения и со стороны наших адвокатов, а мое желание поговорить было проигнорировано. У нас было такое ощущение, что мы могли выйти, посидеть в конвойке, и весь процесс шел бы без нас. Наше присутствие в суде было не обязательно, как будто нас вообще не было. — Как вы относитесь к заявлениям «Шли бы петь в мечеть или в синагогу»? — Это последствия травли, устроенной властями. Появился религиозный мотив, которого не было, и мы об этом много раз говорили. Многие специально проговаривали, что мы — агрессивные атеистки, против религиозных ценностей. Наш феминизм не был услышан, и многие считали, что мы обыкновенные дурочки, которые сами не ведают, что творят. — А почему вы выбрали именно храм Христа Спасителя? Там хорошая акустика? — С акустикой как раз там проблемы: все в микрофонах и динамиках, живого звука как такового нет. Для нас был важен ХХС как политический символ, который возник из-за сращивания РПЦ с властью. Власти используют православную культуру в политических целях. Якобы после революции 1917 года все духовные ценности разом были потеряны, и теперь их срочным образом нужно вернуть при помощи государства. Мне кажется, такие вещи должны вызывать у граждан осторожность, потому что они поверхностны. — Говорят, у вас была еще «генеральная репетиция» в Елоховском храме… — Мы это не комментируем. — Премия Йоко Оно до вас дошла? — Пока нет, но дойдет, куда денется, она же нам дана. Я очень рада, что Оно, известная феминистка и художница, признала нашу работу. Это очень здорово, серьезное признание. — Вы ведь знали, что стали своего рода иконой, находясь в СИЗО? — Я знала про Мадонну: ее концерт, на котором она написала наше имя на спине, даже по телевизору показывали. Но за решеткой жизнь от Мадонны никак не меняется. — Мне недавно рассказали такой анекдот: Pussy Riot — как группа Iron Maiden: больше маек, чем музыкальных дисков. — Даже так? Интересно. Я даже не знаю, что по этому поводу сказать: у нас панк-группа, мы себя не относим к музыкальной индустрии, все делаем на коленках. Я играю на обычной гитаре — может, не очень хорошо, всего несколько аккордов знаю, но в панке главное — энергетика. Вот нам говорят: «Вы плохо поете!» Панк не про это, он про энергию. — Какая акция Pussy Riot у вас любимая? — Сложно сказать, в каждой из них есть свое напряжение: и в метро, и на крыше спецприемника, и на Лобном месте. На Лобном месте было так холодно, что у меня пальцы окоченели и только через две недели разморозились. Все акции — очень важные, и все направлены на проявление политической активности женщин. — Ваш собственный феминизм откуда родом? — Я родилась в классической семье советского времени: муж, жена, все как у всех. Я бы даже сказала, гетеросексистская семья, в которой мужская и женская роли очень четко были распределены. Обязательна идея, что женщина должна рожать, даже усыновление нежелательно. С самого начала общество навязывает, как мальчик себя должен вести, а как — девочка. Я видела это в своей семье и в семьях своих друзей, начала об этом думать, стала читать литературу про феминизм и поняла, что мне нравится свобода гендерного поведения. Я, например, считаю себя квиром, это люди с нестандартным гендерным поведением. Конечно, я догадываюсь, что про меня говорят, что я не совсем женственна, но это не важно. — Это кто вам такое говорил? — Ну, я читала. — Да ерунда это все, вы очень симпатичная. — Да? Спасибо. Но хорошо бы, чтобы гендерное разнообразие как-то в обществе проявилось. — Допускаете ли вы для себя возможность создания семьи? — Семьи? В смысле, муж, дети? Не знаю, нет у меня таких планов. Пока моя основная задача — добиваться освобождения Маши и Нади. Это мой долг. — А на гитаре будете учиться играть? — Я бы на гитаре училась играть и на ударных. Но, боюсь, не будет у меня сейчас на это времени. Светлана Рейтер, «Большой город» - 15 октября 2012г. Архив публикаций Добавить комментарий:
|
Последние поступления:
Последние комментарии:
Портреты:
Варлам Шаламов
18 лет лагерей 19 февраля 1929 г. Шаламов был арестован за участие в работе подпольной университетской типографии и осуждён на три года лагерей. Отбывал наказание в Вишерском лагере (Северный Урал).
Судьбы:
Сергей Котов 4 года колонии за правозащитную деятельность В Екатеринбурге 22 июня 2007 года закончился суд, а говоря точнее, бледное его подобие, над адвокатом-патриотом Сергеем Котовым, обвинённым в «организации экстремистского сообщества», и «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности»
Рослаг:
Гуманный ГУЛАГ Эдуарда Берзина
В начале 1930-х в СССР был поставлен эксперимент по «перековке» зеков: УДО, большие зарплаты и образцовый быт в обмен на ударный труд
|
|
|
|